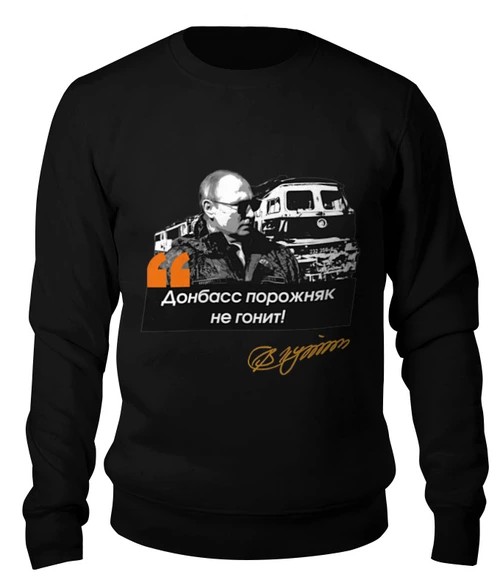Почти незаметна прошла лекция Председателя Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина, которая вышла в виде статьи на сайте КС.
Что же главного сказал Зорькин:
- Важно соблюдение конституционных принципов правового и социального государства и одновременно обеспечивающих все компоненты суверенного и сильного государства.
- Суверенитет Российской Федерации как правовой принцип реализуется (развертывается) не только во вне, но и внутри страны, в том числе через социальную и экономическую сферы в целях обеспечения достойной жизни россиян.
- Россия находится на переломном этапе своего развития.
- Нам предстоит в короткие сроки сделать новое государство на руинах советского социализма, под прессингом постмодернистской практики двойных стандартов, жестких экономических санкций и буквально прорваться в правовое будущее. Исторического времени для этого нам отмерено совсем немного. Мы должны постараться успеть.
Именно сейчас от этого в высшей степени зависит сохранение и укрепление мировой субъектности России во всех ее измерениях: правовом, политическом, экономическом, социальном.
В условиях новых вызовов, с которыми столкнулось человечество, необходима смена парадигмы правопонимания – от права постмодерна к праву метамодерна.
Правовой барьер Россия ещё не взяла, а это значит, что переход к верховенству права и правовому социальному государству не завершен.
Переходный характер переживаемого нашей страной исторического периода как раз и является тем главным вызовом, на который нам предстоит найти ответ, адекватный его значимости и масштабу. Решение этой задачи требует мобилизации усилий не только всех органов власти современной России, но и всего российского общества.
Правовое сознание населения и его элиты, которым пренебрегали предыдущие 70 лет, вновь было подвергнуто испытанию, только на этот раз противоположному – испытанию безыдейностью, потребительством, «слепым и рабским» подражательством.
Право и государство на перекрёстке времён
Мир права уже не будет прежним
События 2020 года — пандемия коронавирусной инфекции (COVID- 19), первый в истории рукотворный глобальный экономический кризис, беспрецедентный рост безработицы и такие же беспрецедентные меры финансовой поддержки населения и экономики, принятые в большинстве стран мира — показали, что существующая глобальная модель развития и казавшийся таким стабильным мировой правопорядок неимоверно уязвимы. Очевидно, пандемия COVID-19 стала катализатором процессов, которые начались задолго до неё, –– это и форсированная цифровизация, и обострение противоречий на расовой и национальной почве, и борьба за историческую память, и перераспределение мест в глобальном разделении труда, и пересмотр стратегий глобального развития. Бесспорно, все это требует государственного реагирования, что неизбежно влечёт за собой существенную трансформацию национальных правовых систем.
Весной 2020 года мы парадоксальным образом оказались в новой революционной ситуации, схожей с революционной ситуацией начала прошлого века. Только тогда, сто лет назад, поводом для социального взрыва послужила мировая война. А сейчас поводом стала «война» с эпидемией –– не случайно в СМИ и выступлениях мировых лидеров используется военная риторика.
При всём различии поводов прошлой и нынешней революционной ситуации, ее глубинные истоки во многом одни и те же –– это неразрешённые общественные разногласия, с которыми обычными технократическими средствами справиться не удаётся. В революциях прошлого века ведущей была проблема равенства и социальной справедливости. Сегодня к ним добавились не менее злободневные темы ––достоинство человека как субъекта национального и международного права, историческая память и идентичность наций-государств в условиях глобализации. И наконец, тема права на будущее, то есть выживания человечества как цивилизации права. Можем ли мы сказать, что в послекоронавирусном (постковидном) мире появится и новое, послековидное право, адекватно регулирующее новую реальность, в которой мы оказались лишь за одно мгновение по меркам исторических часов? И если это новое право реально, то каким оно будет? Постчеловеческим? Техногенным? Правом новых больших идей, то есть правом нового модерна (метамодерна)?
Социологи отмечают нарастающую проблему людей, которые не могут перестроиться и адаптироваться к новой реальности, найти своё место в будущем. Действительно, пришло время задаться вопросом о том, чего мы хотим от нового послекоронавирусного мира, есть ли у него будущее, и кого «возьмут» в это будущее?
Обсуждение и конструирование образа будущего дает возможность избежать повторения ошибок и трагедий прошлого. При этом высокий уровень абстракции рассуждений не должен уводить от главной цели, ради которой осуществляются научные изыскания и практические преобразования –– это развитие человека как существа разумного и, следовательно, правового и государственного [1] в его социальном взаимодействии на основе принципов равенства и справедливости.
Корректировка правового регулирования и правовые реформы как конструирование образа будущего, хотя и не являются панацеей от ошибок в планировании и развитии социальных процессов, вместе с тем необходимы для предотвращения или уменьшения негативных последствий перехода от одного этапа развития цивилизации к другому. На пути «прекрасного будущего» лежит не какой-то Ancien Régime и его носители. Для того, чтобы попасть в будущее, нужно каждый раз на каждом новом этапе развития обеспечивать оптимальное состояние правового социального государства. По мере развития цивилизации и усложнения форм общественного взаимодействия усложняется и правовое регулирование, которое должно адаптироваться к текущему уровню развития общества и государства. Правовой барьер приходится преодолевать каждый раз заново, на каждом очередном этапе развития отстаивать цивилизацию права в борьбе против социального хаоса и многоликого праворазрушительства.
Очевидно, в изменившимся мире право уже не будет прежним. Но каким оно будет? И поскольку феномены права и государства неотделимы друг от друга, постольку мы должны задаться вопросом о том, каким будет и постковидное государство.
Время «больших идеологий»: прощай или до встречи?
Долгое время, что особенно ярко проявилось в XX веке, право исходило из идеи главенства картезианского ratio, очищенного от схоластических построений средневековья. В праве модерна, именно о нём идёт речь, предполагалось, что с помощью его инструментария можно разрешить социальные проблемы, изменить или даже сконструировать новую реальность. Казалось, что, приняв декларацию, в которой будут провозглашены примат прав человека и гражданина, или конституционный текст, в котором будут рационально распределены полномочия между государственными органами, и можно будет устроить желаемую государственность будущего. Подобные попытки предпринимались во многих частях Света, в том числе и в нашей стране. Причём, какого бы философского направления не придерживались авторы трудов по юриспруденции (скажем, полярные взгляды Дайси и Карре де Мальберга), они сходились в том, что право может отразить и урегулировать все варианты общественных отношений, а способ такого регулирования или распределения полномочий по регулированию с этой точки зрения –– вопрос вторичный.
Не все страны приходили к этой идее одновременно: где-то процесс происходил достаточно быстро и менее болезненно, где-то он занял более длительное время, начавшись при этом значительно позже. Революции XVIII-XX веков во многом были вызваны желанием форсированного перехода к состоянию модерна, включая рациональную модель правового регулирования. И даже советская система (которая при достижении своей конечной цели –– построения бесклассового коммунистического общества –– предполагала отмирание государства) фактически шла по пути полного преобразования общественной жизни в духе своеобразного модерна. Идеологи и творцы этой системы на определенном этапе вынужденно допускали использование некоторой правовой формы. Источником её легитимности объявлялось так называемое революционное правосознание (сочетание несочетаемых понятий!); в конечном же счёте правовая форма как таковая должна была отмереть как пережиток буржуазного общества.
Как известно, модерн основывался на «больших идеологиях», которые двигали историю (заметим в скобках, что движение это не всегда было направлено вперёд). Ж.-Ф. Лиотар (Jean-Francois Lyotard) в своей книге «Состояние постмодерна. Доклад о знании» (1979) говорил о «больших нарративах», «мета-нарративах», «великих повествованиях» в виде крупномасштабных доктрин, философских систем и легитимаций. К ним можно отнести и идеи Просвещения, и коммунистическую утопию, и даже, с известными оговорками, тупиковую идеологию фашизма, которая стала своего рода первым звонком того, что либеральная идеология, выросшая из философии просвещения, не так безупречна и устраивает не все группы общества. Первая мировая война и её ещё более страшное продолжение –– Вторая мировая война поставили под сомнение саму возможность реализации какой-либо утопической идеологии. Так, просвещённые либеральные демократии запятнали себя малодушием и сговором с агрессором, а идеологи в духе Blut-und-Boden будущее связывали с отрицанием всего человеческого. При этом феномен расчеловечения ярко продемонстрирован в философии и художественной литературе постмодернизма, которые стали реакцией на десятилетия реализации тоталитарных и авторитарных идеологий. С системой, опиравшейся на коммунистическую утопию, мир прощался несколько дольше. Но и она в последующие десятилетия после чехословацких событий 1968 года быстро клонилась к упадку, который в нашей стране завершился её крахом в 1991 году.
В 2021 году исполняется 75 лет с момента вынесения Нюрнбергского приговора главным военным преступникам –– главарям гитлеровской Германии. Это событие важно не только потому, что фактически впервые в истории военные преступники, совершившие тягчайшие преступления против человечества, понесли наказание не в результате расправы, а в результате публичного судебного процесса. Мы не должны забывать о нём ещё и потому, что тогда в Нюрнберге были осуждены реакционные утопические идеи, а вера в торжество разума была серьёзно подорвана. Неслучайно искусство второй половины XX века так далеко ушло от привычной красоты и декоративности –– в мире, пережившем трагедию Второй мировой войны, по расхожему утверждению, это стало невозможным.
Таким образом, трансформация, отход от права модерна, начинается уже тогда, в 1946 году. И поэтому Нюрнбергский процесс также важен для нас сегодня. Подчеркнём ещё раз: процесс не только осудил главных военных преступников, которые понесли заслуженное наказание, он также стал отправной точкой для смены парадигмы восприятия права обществами, для переоценки роли отдельного исторического деятеля в истории, для признания ценности жизни человека и невозможности для кого бы то ни было безнаказанно попирать достоинство личности.
Ещё одно следствие произошедшего в 1946 году мы можем увидеть в России, победившей фашизм. Ценность человеческой жизни, недопустимость реализации утопии, какой бы светлой она ни была, на крови и жизни людей начинают постепенно проникать и в сознание строителей коммунизма. И если до 1953 года всё как будто бы оставалось по-прежнему, то позднее тоталитарный советский режим, с его родовой травмой насилия над личностью, начинает трансформироваться, выхолащиваться вплоть до своего самоотрицания, когда, кроме лозунгов остаётся одна пустота.
Рациональным стремлением к высшему благу были мотивированы многие дороги в ад –– и евгенические опыты, и поражение в правах огромных групп населения, принадлежащих к какому-либо классу или расе, сегрегация и апартеид. Эти практические воплощения тоталитарных идеологий прошлого столетия есть не что иное, как отражённые в кривом зеркале идеи народного блага и возведённый в Абсолют рационализм. Такой тоталитарный рационализм не учитывает ни ценность отдельной человеческой жизни, ни важность поступательного развития, ни возможность эволюционных преобразований. Он стремится преодолеть одним махом все преграды и построить «светлое будущее» как можно скорее, уже в ближайшем завтра, не считаясь с жертвами.
Закономерно, что именно после событий Пражской весны, окончания войны во Вьетнаме и после установления равновесия в Холодной войне Лиотар пришёл к выводу, что цивилизация больше не может опираться на большие идеи, или, как он писал, «большие нарративы –– их время прошло, а, соответственно, прошло и время модерна». Позднее эту же мысль продолжил Френсис Фукуяма (Francis Fukuyama) в своей нашумевшей статье «Конец Истории?» (1989 г.), двусмысленность заглавия которой при переводе на русский язык (опубликована в «Вопросах философии» в 1990 г.) потерялась. Разумеется, Фукуяма не имел в виду, что событийная история прекратилась: как гносеологический процесс она завершится только со смертью последнего человека. Фукуяма полагал, что распространение в мире либеральной демократии западного образца означает достижение конечной точки социокультурной эволюции человечества, формирование окончательной формы правительства, окончание идеологических противостояний, глобальных революций и войн, а также — конец искусства и философии. Таким образом, скорее, речь шла о том, что у истории есть определённые направления или «тупики» (сущ. мн. ч. ends). Одно из этих направлений истории завершилось, на взгляд Фукуямы, с окончанием противостояния между либерализмом и коммунизмом.
Возможно, идеологическое противостояние между капитализмом и советским социализмом («коммунизмом») XX века [2] в самом деле было одним из тупиков истории или ловушкой исторического времени в веере множества возможных вариантов исторического развития государства и права –– динамичных, застойных и тупиковых –– на каждом отрезке исторического времени. При этом можно задать вопрос: выбирают свою конкретную историю (исторический путь) люди или история выбирает их? Но это вопрос скорее уже не к юристам. Думаю всё же, что и Лиотар, и Фукуяма склонны были преувеличивать свои выводы: наступил конец только тех больших идей и конец только той истории. Иначе не будет ни человека, ни человечества как таковых. И тогда действительно «отомрут» государство и право. Однако по Аристотелю человек есть существо политическое, а Цицерон к этому добавил идею о правовой природе человека и государства. Но ведь это означает, что и право, и государство по своей сути есть человеческие артефакты, они необходимы именно человеку по его природе. А это означает, что не прекратилась не только «событийная» история, но и история государства и права в контексте больших идей, противостояния идеологий. И пока вряд ли можно гарантировать, что окончилась история диктатур, революций и войн холодных и, увы, горячих. Таких страховых полисов история еще не дала.
К праву метамодерна
Право неразрывно связано с культурой конкретного общества, и любые правовые заимствования, в частности отнесение определённых правовых категорий одной правовой системы к другой или автоматическое отнесение категорий международного права к праву национальному –– тупиковый путь. Но такой вывод отнюдь не значит, что не существует какого-либо общего знаменателя или универсального ценностного правового фундамента, на котором должна основываться по существу любая правовая система.
Культурологи противопоставляют два понятия: «паратаксис», которое в культурологии означает коллажность произведения искусства и отсутствие какой-либо иерархии, которой могло бы следовать это произведение, то есть по существу произведение постмодернизма, –– и «метаксис», то есть произведение, которое не остаётся нейтральным к ценностям, несёт в себе определённый набор идей. Второй вариант произведения культуры был характерен, например, для эпохи модернизма, ярким излётом которой является так называемая прекрасная эпоха (Belle Époque) конца XIX –– начала XX века или межвоенный период двадцатых- тридцатых годов прошлого века.
В области права, которое является неотъемлемой частью культуры, такое деление тоже может быть обнаружено. Например, правовой модернизм начала XX века –– работы Ганса Кельзена и его революционные идеи о конституционном суде как органе конституционного контроля и не менее важная стоящая за ней идея, о которой часто забывают, –– так называемая Grundnorm как метанорма, придающая значение и обязательную силу всей правовой системе. Представления об определенных конституционных нормах особой силы, как ядре правовой системы, впоследствии привели к возникновению доктрин «базовой структуры», применяемой Верховным Судом Индии, «основных законов» Верховного Суда Израиля, «неизменяемых конституционных положений» Федерального Конституционного Суда Германии и других подобных подходов. Все эти доктрины предполагают наличие в правовой системе особых норм-принципов, которые выражают квинтэссенцию ценностей конкретного общества, ценностей, которые не могут быть изменены. Право модерна, будучи частью культуры модерна, предполагает веру в просвещение, торжество разума и возможность построения утопий.
К 70-80 гг. XX века в развитых капиталистических странах утвердилось общество потребления, основанное на идеологии либерализма. И затем потерпела крах модель биполярного мира. В связи с этим Френсис Фукуяма провозгласил «конец Истории». Подобно тому, как в искусстве социалистического реализма предполагалось существование конфликта только между хорошим и лучшим, так и идеологи конца Истории считали, что больше не будет ценностного конфликта или конфликта между социалистической (коммунистической) и капиталистической (либеральной) моделями, поскольку-де победила либеральная идеология, доказав своё превосходство во всех сферах. Парадигма конца Истории предполагает inter alia, что поскольку существует единое разделяемое всеми понимание идеологии и основ построения общества, можно отбросить разницу в культурах, ценностях, общественных укладах и т.д., брать отовсюду понравившиеся фрагменты компоновать их понравившимся образом (метафорически удачно описанным немецко-швейцарским писателем Германом Гессе). Если обратиться к классической философии Гегеля, то предпосылки такого подхода можно найти в его философии Истории, которая двигалась к определенной цели (Telos) и, достигнув её, должна была бы остановиться.
Правовые системы государств бывшего социалистического лагеря в 90-е годы были хорошей иллюстрацией такого постмодернизма в праве, когда казалось, что пересадив на национальную почву правовое заимствование из другого государства или из наднационального правового механизма, можно будет с лёгкостью преодолеть негативное прошлое и сразу оказаться в правовом либеральном государстве.
Эпоха постмодернизма в праве (всё ещё не закончившаяся и по сей день) связана с рядом феноменов, прежде всего с глобализацией и той определяющей ролью, которую играют права человека в глобальных отношениях. Оба феномена противоречивы, и, как показала практика, всё равно не могут существовать в нейтральном внеценностном поле. Соответственно, право постмодернизма, будучи частью культуры постмодернизма, предполагает отрицание иерархий, иронию и сарказм в качестве основного онтологического метода, деконструкцию и недоверие (фейковые новости, например).
Сегодня, устав от релятивизма постмодернистского политически-волатильного права, многие общества приходят к осознанию, что право – это не «чистая» форма, нейтральная к ее содержанию, и что национальная правовая система не может функционировать – и, соответственно, правовое развитие общества невозможно – в отрыве от его исторической, моральной и ценностной основы. История по-прежнему движется, она никогда и не кончалась. Право глобализации, казавшееся средством от всех проблем общества, как показал опыт, приводит к новым проблемам, прежде не виданным. Ответом на вызовы постмодернистского права стала «большая идея» национальной идентичности, называемая в разных правовых системах по-разному, но в своей основе сводящаяся к некоторому возвращению к ценностному фундаменту, положенному в основу конституционной системы государства.
Резонно возразить, сказав, что доктрины сродни национальной конституционной идентичности –– это, дескать, ретроградные попытки остаться в прошлом, сохранить сложившийся status quo. Однако отказ от идеального, в том числе и в праве, чреват бессмысленностью регулирования (регулирование ради регулирования?!). Примеры мы часто видим в разного рода запретительных инициативах, которые не создают ничего, кроме информационного шума и вклада в сомнительные репутации субъектов, предлагающих тот или иной запрет. Очевидно, после катастроф XX века и множества примеров века нынешнего нельзя оставаться слепым идеалистом, какими были первые поколения строителей коммунизма в России. Но отказываться от каких-то целей и идеалов, потерять образ будущего тоже нельзя –– ведь это все равно, что слепоте предпочесть глухоту. Такой путь ведёт в тупик бесправия, теряется сам смысл права как необходимого искусства, сводя право к инструкции по эксплуатации общества.
Решением поднятой проблемы – актуальность которой возросла в связи с нынешней ковидной пандемией – может быть смена парадигмы права –– переход к праву метамодерна (или нового модерна). [3] Представляется, что отходя от внеидеологического и коллажного понимания права эпохи постмодерна, право должно отразить именно общество, с его ценностями, общими закономерностями и особенностями. Причём эти ценности не могут быть абстрактными «свободой, равенством и братством» или «миром во всём мире». Право метамодерна должно вобрать в себя представления о человеке, его правах и свободах как высшей ценности для государства, и одновременно о человеке как части народа, соединенного общей судьбой на своей земле, и о человеке, являющемся частью человеческого рода, человечества как цивилизации права.
Для переосмысления феномена права с позиций метамодерна существенное значение имеет взгляд на право как на универсальное произведение искусства (Gesamtkunstwerk), которое стремится проникнуть в различные сферы жизни, не отказываясь при этом от ценностного посыла римских юристов jus est ars boni et aequi. Создание нормы права как универсального правила поведения сродни работе скульптора, отсекающего всё лишнее, чтобы его произведение стало идеальным. Норма права при этом действует с учётом особенностей регулируемых социальных отношений и множества прочих факторов и условий. Правовая норма в качестве особого артефакта, попадая в сферу правореализации (включая правоприменение) также требует к себе в идеале такого отношения, как к произведению искусства со всеми вытекающими последствиями с точки зрения его жизненности.
Право конкретного государства, в том числе России, отражает его общие закономерности развития и в то же время его культурные и исторические особенности, в которых в том числе и память о прошлых победах и поражениях, катастрофах и бесправии, праворазрушительстве и правотворчестве, застое и модернизации. Не случайно эта идея отражена в новой поправке к Конституции РФ (статья 67.1).
Важным представляется и то, что «идеология», «национальная идея» или иные подобные концепты, о которых так часто рассуждают и «слева», и «справа», – во многом кажутся рассуждениями о некоем прошлом или будущем «золотом веке». Между тем, идея права нового модерна должна состоять в отказе от нереализуемого прожектёрства и архаических утопий, в признании целостности и единства своего прошлого, настоящего и будущего, в согласии о том, что все метаморфозы, которые претерпела наша правовая система и наше государство, останутся неотъемлемой частью (аспектом) его идентичности. Именно эта идея отражена в обновлённой в 2020 году Конституции Российской Федерации.
В соответствии с Основным законом, Россия не признаёт себя исключительной, она не говорит о том, что у неё специальная миссия – спасение всего мира от бездуховности, как думал Ф.М. Достоевский. Вместе с тем Россия уникальна с точки зрения совокупности географических, исторических, культурологических факторов, составляющих её гражданскую и этническую идентичность, отражённую в том числе и в тексте Основного закона. Именно в этом аспекте суверен России – многонациональный народ – имеет право на уважение своей самости, на признание права отличаться и, будучи при этом членом мирового сообщества, выражать своё несогласие, если ему пытаются навязать чуждые представления об устройстве государства и общественных институтов. Право метамодерна, таким образом, признаёт и уважает национальную идентичность, не фетишизируя её.
Пандемия 2020-2021 вызвала к жизни дискуссии подобного рода. «Вставший на паузу» мир глобализации (то, что Клаус Шваб назвал great reset) позволил государствам в некотором смысле остаться наедине с собой. Осмыслить своё место в современном мире и то, насколько они довольны этим местом. Попытаться понять, насколько государство ценно для народа-суверена. Не случайно кризисный 2020 год стал годом масштабных конституционных изменений или обсуждения возможности таких изменений не только в России, но и в Азии, Латинской Америке.
Право, мораль, этические нормы взаимосвязаны, они основаны на общих принципах, главными из которых являются соразмерность и справедливость. Даже для эстетических норм, если мы вспомним правила древнегреческих скульпторов и архитекторов, необходимым условием является соблюдение правила гармонии –– то есть соразмерности или, иными словами, места, которое, по справедливости, занимает каждая составная часть сложного произведения.
Постмодернисты от права могут с позиций релятивизма возразить: то, что понимается как абсолютно недопустимое сегодня, например, порабощение свободного человека, которое в частности нарушает императивные нормы jus cogens международного права, ещё 200 лет назад рассматривалось в качестве допустимого явления, а в античности раб в принципе не обладал правосубъектностью. Соответственно, скажет приверженец постмодернизма, нельзя вывести какие-либо однозначные и навсегда определённые истины, на которых основывалось бы право той или иной эпохи. Однако, во-первых, существование какого-либо феномена в древности или средневековье, пусть он закреплен законом и с ним соглашалось подавляющее большинство людей, само по себе не означает, что такой феномен отвечает «естественному порядку вещей», природе человека как разумного существа. Ведь право каждого исторического времени –– это не tabula rasа. Право –– исторически развивающееся «искусство доброго и справедливого». И, как говорил Аристотель, природа предмета в целом выявляется не в его начальной стадии развития, а в завершенном состоянии. Разделение людей на субъекты права (свободных) и рабов (крепостных), лишенных правосубъектности и являющихся вещью у рабовладельца, исторически объяснимое явление. Но оно свидетельствует о неразвитом состоянии права. Рабство (крепостничество) противоречит природе человека как существа разумного и, значит, правового. Отнятие у одного класса людей статуса субъектов права с целью обеспечить жизнь другого, господствующего класса несовместимо с самой сутью права как нормативной формы человеческой цивилизации. Ведь право, по сути, есть право человека, то есть форма свободы человека в его социальном взаимодействии. Именно поэтому в соответствии с принципами равенства и справедливости общество пришло к признанию равенства всех перед законом и судом и равноправия, то есть к признанию права как всеобщей нормативной формы взаимодействия человека в социальном общении.
Как давно сказано, право и государство изобретены не для того, чтобы устроить рай на Земле, но для того, чтобы наша жизнь здесь не превратилась в ад. Это, однако, не значит, что право нейтрально и безразлично к ценностям и идеалам. Право как искусство равенства и справедливости –– это неотъемлемая часть культуры общества. Как таковое, право не может быть отделено от других социальных явлений, прежде всего от идеалов, ценностей и принципов, которые лежат в основе человеческого общества и образующих его цивилизаций, стран и народов в их развитии с присущими им общими закономерностями и специфическими особенностями в то или иное историческое время.
Что показывают часы Истории?
Возвращение государства
В 2020 году во время разгара пандемии коронавирусной инфекции активизировались дискуссии о том, что мир не будет прежним, о том, что пандемия поменяет устройство как самого общества, так и всей системы международных отношений. И действительно, стали закрываться границы, по крайней мере в области медицинского обслуживания страны склоняются к автаркии, приняты беспрецедентные меры социальной поддержки, тем большие, чем богаче государство, их устанавливающее. Такие меры в эпоху победившего неолиберализма казались немыслимыми. При этом парадоксальным образом за последний год одной из ведущих тенденций стало своего рода возвращение прошлых практик или, если говорить более образно, возвращение назад к государству. Пьер Бурдье (Pierre Bourdieu) понимал государство двояко: с одной стороны, как некий бюрократический аппарат управления коллективными интересами, а с другой стороны – территориальная юрисдикция, на которой такое бюрократическое управление функционирует. Добавлю сюда и третье значение – государство как механизм разрешения общих проблем и выполнения тех задач, которые частным субъектам или каким-то иным объединениям неинтересны, например, борьба с бедностью, массовое здравоохранение.
Для решения целого ряда проблем, возникших в связи с ковидной пандемией, понадобилось использовать все силы и ресурсы государства. Как оказалось, только оно и может ответить на беспрецедентный по своему огромному масштабу вызов.
На наших глазах произошёл определённый разворот к модерным практикам управления, условной «сильной руке» суверенного государства, без которой, как выяснилось уже ранее, в условиях мирового экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, и в условиях нынешней пандемии COVID, всё ещё не обойтись.
Такой разворот деятельности государства, усиление его экономических и социальных функций происходит в широком контексте переосмысления места и роли государства в современном мире. В связи с этим Боб Джессоп (Bob Jessup) в недавно вышедшей на русском языке монографии [4] обращает внимание, что помимо более или менее традиционной и понятной угрозы территориальному суверенитету, например со стороны других государств, глобальных корпораций и т.д., современное государство сталкивается и с угрозой темпорального суверенитета: государство отстаёт от развития современных технологий, не поспевает за современными средствами передачи информации и, как следствие, не может должным образом реагировать на актуальные вызовы и проблемы. Безусловно, самым ярким примером такого темпорального отставания стала неадекватная реакция многих государств на пандемию коронавирусной инфекции. Если в одних из них, преимущественно восточноазиатских, удалось своевременно принять нужные меры, то в других – печальный пример здесь это Старый Свет – неспособность вовремя отреагировать привела к сотням тысяч человеческих жертв. Не хочется повторять заезженную мантру о конце Запада, но в 2020 году она была очень близка к правде.
У государства есть несколько вариантов ответа на угрозу темпоральному суверенитету. Первый – погоня за ускользающим временем в духе Красной королевы, второй вариант – архаизация и попытка насильно остановить бег времени. Третий вариант, продолжая литературные аллюзии, – попытаться обрести своё историческое время, признав, что оно в разных обществах, в разных культурах и государствах течёт неравномерно и что его невозможно обнулить. В определенных пределах государство может, в том числе посредством реформ, изменять развитие. Другой вопрос – насколько успешно. Единственное, чего не может сделать государство, – обнулить историческое время и «перезагрузить» развитие общества «с чистого листа» (tabula rasa – чистая доска).
Подчеркну ещё раз: история не так проста, как нам хотелось бы. Историческое время многомерно. Исторических часов, в том числе в России, много. На одних часах –– XXI век. Но на каких-то стрелка держится совсем на другой отметке. Именно это делает проблему нашего общего правового будущего (проблему цивилизации права) особенно трудной.
Сама по себе история едва ли способна кого-либо чему-либо научить. И всё же исследование и обсуждение «исторической травмы» и определение её влияния на нас сегодняшних –– процесс далеко не бесполезный. Игнорирование травм прошлого, влияющих на нынешнее наше настоящее, –– это, по выражению Гумбрехта (Hans Ulrich Gumbrecht), «историческая латентность», которая привязывает нас к неразрешённым в прошлом проблемам и недостигнутым целям. Это и есть tabula rasa (чистая доска) или white paper (белая бумага), то есть исторический пробел, попытка обнулить историческое время, действовать с чистого листа. И потому каждый раз, заново наступать на одни и те же грабли. В этом отношении каждый очередной «майдан» на постсоветском пространстве, пользующийся противоправными, антиконституционными средствами, заранее обрекает себя на исход и готовит почву для последующих неразрешённых конфликтов.
Недаром на протяжении полутора веков мы снова и снова обращаемся к Великим реформам Александра II, пытаясь заглянуть в «колодец времени» и там найти ответ на вопрос, почему Россия не использовала шанс взять правовой барьер и вновь «наступала на те же грабли»? Почему после отката реформ она в начале прошлого века не использовала шанс перейти к конституционной монархии? Почему рухнула Российская Империя? Почему страна оказалась закована в бетон большевизма и бесправия? Разумеется, мы не можем отрицать достижения видных советских учёных-правоведов, таких как В.С. Нерсесянц, Г.И. Тункин, В.Н.Кудрявцев, О.С. Иоффе, готовивших теоретическую почву для возрождения права. Но все же в целом юриспруденция была скована идеологией марксизма-ленинизма и «сверхпозитивизмом».
С принятием Конституции в 1993 году естественно-правовые взгляды заняли своё место в доктрине российского права наряду с иными подходами в общем русле модернизации нашего Отечества на основе верховенства права, равенства и справедливости. Но всё же четверть века с небольшим, в течение которых действует российский Основной Закон, –– в историческом измерении слишком малый срок для того, чтобы говорить об устойчивом и динамичном, «уверенном в себе» демократическом правопорядке. И это объяснимо. Россия, с одной стороны, находится в состоянии ошеломительных преобразований, превративших страну в пятую экономику мира, и рывка в цифровое будущее, а с другой –– оказалась в тисках экономического кризиса, социального раскола, коррупции, внешних неправомерных экономических санкций и холодной войны. С этой точки зрения на перекресток времён стрелки исторических часов России показывают точку бифуркации, в которой встретились ностальгия по отжившему советскому модернистскому проекту и искаженный в причудливых метаморфозах образ права модерна, смешанный с постмодернистской практикой правового релятивизма и утраты идеалов и веры в «большие нарративы». Характеристика общества риска, которую дал Ульрих Бек, очевидно применима и к новой России.